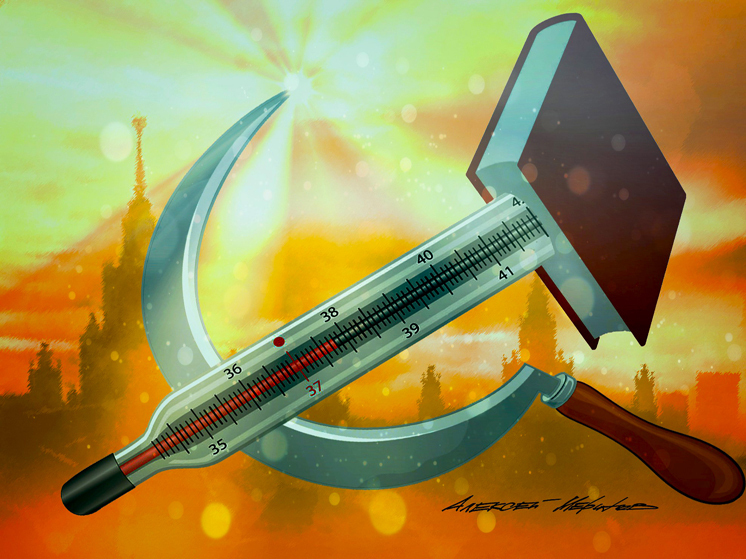Тогдашняя сверхреспектабельная 16-страничная «Литературка» (огромный штат сотрудников, собкоры во всех республиках СССР, внушительный парк автомобилей, дачные поселки в Переделкине и Шереметьевке, Дом творчества в Абхазии) отличалась редкой демократичностью: не было бюро пропусков, читатель мог с улицы запросто прийти к любому выдающемуся мастеру слова (а любой репортер мог безсубординационно обратиться к главреду, Герою Соцтруда Александру Чаковскому или его первому заму Виталию Сырокомскому, уж не говоря о рядовых замах)…
В чем заключалась моя работа, работа начинашки?
С утра, не успела еще редакция заполниться людьми, я получил от начальницы срочное задание: заказать юбилейную заметку к 70-летию писательницы, которая в табели о рангах значилась лауреатом Государственной премии. При этом о ней нельзя было сказать: «широко известная в узких кругах», ибо премии удостоилась давно и мало кто помнил, за какое именно произведение — роман о рабочем классе (требовалось это уточнить), поэму о женщинах на войне? По инерции она продолжала считаться значимой, популярной. (Удивляет, сколь долго держится миф, не рассеивается мираж дутой величины, хотя призрачность ее очевидна, шум, некогда вспыхнувший, продолжает вибрировать — эхом газет, радио, правительственных указов, — и чучело, величественно покачиваясь громоздким дирижаблем, плывет над озадаченной и одураченной толпой.)
В картотеке (библиотека «ЛГ» была грандиозно многотомной, справочное бюро — мощнейшее) наличествовал внушительный список тех, кто о юбилярше когда-либо отзывался, — я обзвонил всех. Каждый находил вескую причину отказаться. Ссылались на болезни, плохое самочувствие. Понятно: те, кто трудился с ней бок о бок, достигли ее почтенного возраста, а то и перешагнули этот рубеж.
— Я бы с удовольствием. Но только что из поликлиники. С сердцем нелады, — жаловался один.
— Только что выписался из больницы, — вторил другой.
Усталость, немощность (и равнодушие) слышались в этих голосах.
— Вам бы чуть пораньше звякнуть, я вечером в санаторий уезжаю.
Державшаяся монолитом гвардия умудренных закаленных идеологических бойцов явно рассыпалась от ветхости. Демагоги, убежденные помощники коммунистической партии, процветающие графоманы... Раскидала, посмеялась над ними жизнь.
Я не отходил от телефона. Нажимал рычажки и снова крутил диск. Дошел до исступления. Начальница заглядывала через каждые десять минут — узнать, как дела. Ее теребил зам главного редактора: сверху, из ЦК, требовали, рекомендовали широко отметить знаменательное событие. Накачивали свежим паром и летучим газом уродливый фантом-дирижабль!
— Сколько ей? — расспрашивал слюнявый, с хрипотцой голос.
— Семьдесят.
— А мне сегодня семьдесят один.
— Поздравляю, — сказал я.
— Спасибо. Сижу у телефона и жду: кто объявится. Никто.
— Я позвонил, — утешил я.
— Это случайно. По другому поводу.
— Так напишете?
Я старался говорить бойко, надеясь этой своей бодростью заразить.
— Не смогу. Во-первых, у нас давно нет личных контактов. А во-вторых, у меня депрессия. Мне кажется, я никому не нужен.
«Господи, — чуть не вырвалось у меня, — чтобы эту очевидную истину понять, потребовалось семьдесят лет?»
— Зачем вы так? — все же продолжил убеждать я. — Вот мы к вам обращаемся. Из редакции. Значит — нужны.
— Я написал больше ста книг, — перебил старик. — И ни упоминания, ни ссылки на семидесятилетие…
— Мы писали о вас, — я настырно возражал, начиная изнывать от затянувшейся торговли.
— Когда? Четыре года с момента последней публикации. Я слежу…
С некоторыми из тех, кому звонил, я был знаком лично. И пытался преобразовать неформальные отношения в конкретно воплощенную пользу. Нет, отфутболивали — с большей или меньшей степенью откровенности.
— Не найдете здравомыслящего, который бы написал о ней.
— Андрей, брат мой, я погряз в своей повести о шамане. Да я и не читал ее никогда.
Наконец начальница не выдержала:
— Позвоните ей. Пусть сама порекомендует.
Я набрал номер. Откликнулся звонкий, почти девичий голос.
Я представился. И продолжил:
— Приближается ваш юбилей, газета хочет подобающе отметить... Кто бы мог написать о вас, чтобы доставить вам радость?
— Спасибо, — проверещала она. Затем в трубке возникла пауза. — Даже не знаю. Столько друзей… Мысли разбегаются.
— Например? — настаивал я.
Она назвала две фамилии, тех людей, которым я уже надоел.
— А еще?
Назвала еще одну.
— Он в санатории, — сказал я. — Нет связи.
— А вы дайте телеграмму.
— Дам. Непременно. Еще кто смог бы вас порадовать?
— Честное слово, мысли разбегаются. — Было не различить: это притворство, лукавство, искусно скрываемое огорчение? Или поразительная самовлюбленность? — Столько народу звонит, хвалят, просят прислать книгу. — Этому верилось. — Я запишу ваши координаты и позвоню, как соберусь с мыслями.
Она так и не позвонила.
Все хотят юморить
— Знакомьтесь, — зам главного назвал меня, затем представил посетителя. — Наш будущий замечательный, надеюсь, автор работает в Институте международных отношений, заведует кафедрой.
Я воззрился на молодого человека, столь рано занявшего солидный пост. В дымчатых очках, при галстуке и с дымящейся сигаретой он идеально укладывался в образ дипломатического работника.
— Да, решил удариться в юмор, все говорят, у меня природное чувство, — обнажил в улыбке крепкие зубы высокопоставленный гость.
— Мне понравились сочинения, я смеялся, — на всякий случай предупредил зам вероятное разногласие и нежелательное разночтение.
Поднялись ко мне в кабинет. С первой строки стало ясно: ни в зуб ногой, белиберда. Я водил глазами по строчкам, прикидывая, что говорить и как изворачиваться. Ненависть мешалась с дремучей тоской, почти заболеванием, я с трудом удерживал себя — от того, чтобы треснуть соискателя литературной славы по кумполу и ворваться к заму, сосватавшему (который раз!) счастье прочтения бездарного опуса. Подсылает «чайников», навьючивает и протаскивает бред и ахинейщину! Рой топорных несоображенцев оккупировал литературу, засидел ее, как стая мух. От их засилья не продохнуть! А талантливым не пробиться.
Клерк в шерстяной тройке, голубой сорочке и при галстуке заговорил:
— Я должен понять, стоит ли тратить время. У меня договор с издательством на книжку политической тематики, бессмысленно отвлекаться, если рассказы не годятся.
Я препоручил:
— У вас серьезная заявка на успех в ироническом жанре.
И препоручил дальнейший разговор клеврету удружившего мне зама, а сам направился в пенаты начальственного этажа. «Главное — не сорваться, вытерпеть, отспорить, — внушал себе я. — Кто покидает поле битвы, тот проигрывает. Поднапрячься, выдюжить. Если сдамся, вал графомании попрет стеной. А пока достойное, пусть не без издержек, все же удается печатать, не имею права пятиться».
— С чего он вообразил, что умеет смеяться и смешить? — по-свойски сказал я заму. — Таких застегнутых умников к бумаге на пушечный выстрел подпускать нельзя.
— Ты не дипломат, — заулыбался зам. — Надо уклоняться от конфликтов, а ты прямо-таки нарываешься. Эта страна задумана как рай для чиновников. Вот они и правят. Мы зависим от них. Будешь ладить — позволят приносить пользу, поцапаешься — все себе и другим испортишь. Я в своей должности двадцать лет. Врагов у меня в двадцать раз больше, чем друзей. Но я не даю повода ко мне придраться. И ты не давай. Зачем трепать нервы? Конечно, трудно столковаться. Но коль приносят нам свои писания, значит, уважают. Значит, с нами считаются. Скажи ему, что это его творение — хрень, и насмерть поссоришься. Ну так и похвали, жалко, что ли?
— А потом еще и напечатать?
— И напечатать... Если другого варианта нет.
— Так создается литература, так мы ее создаем! — в сердцах выкрикнул я.
— Гениев всегда немного, — возразил он. — А разница между середняком и никаким писателем для истории незначительна… В памяти неблагодарных потомков не останутся ни те, ни другие...